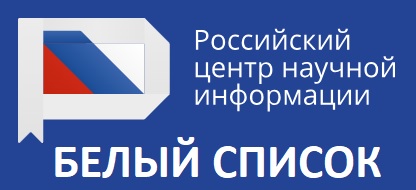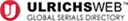Т. И. Ерохина. Провинциальность в художественной картине мира русского символизма
Т. И. ЕРОХИНА
ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА РУССКОГО СИМВОЛИЗМА
ЕРОХИНА Татьяна Иосифовна, докторант кафедры культурологии и журналистики Ярославского государственного педагогического университета, кандидат культурологии, доцент.
Ключевые слова: провинциальность, художественная картина мира, русский символизм, повседневность, быт, космополитичность
Key words: provinciality; art picture of the world; Russian symbolism; daily occurrence; way of life; cosmopolitism
Постижение провинциальности и изучение русской провинции сегодня имеет сложившуюся научную традицию. Обозначено исследовательское поле, определены важнейшие направления и принципы исследований, сформирована методология изучения провинциальности и провинции. Теоретическая база осмысления провинциальности в русской культуре была заложена в трудах философов и мыслителей второй половины XIX — начала ХХ в.
Осмысление провинциализма и провинциальности как черт русской ментальности — одна из ведущих тем русской литературы второй половины XIX в. Сегодня многих исследователей привлекают провинциальные миры, созданные Н. В. Гоголем, Ф. М. Достоевским, Н. С. Лесковым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, А. П. Чеховым. Тем не менее, следует отметить отсутствие исследований, посвященных изучению провинциальности в художественной картине мира русских символистов, хотя среди мэтров символизма, общепризнанных «предтеч» декаданса и символизма в России, есть выходцы из провинции (К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб).
Отчасти это можно объяснить тем, что проблема провинциальности, соотношения столицы и провинции не была доминирующей в самосознании русских символистов. Для художественной культуры конца XIX — начала ХХ в. характерно создание собственного хронотопа, в рамках которого пространственные и временные отношения приобретали особый смысл и были связаны с такими категориями, как «Запад» и «Восток», «рубеж», «эсхатология» и др.
Художественная картина мира представляет собой сложный феномен, содержание и структура которого зависят от значительного количества факторов, среди которых есть объективные (научные представления, историко-культурная ситуация, национальные традиции) и субъективные (принадлежность к субкультуре, индивидуальный опыт, специфика творческой личности). Бесспорным является то, что любое художественное течение, независимо от степени его однородности, создает и передает последующим поколениям определенную художественную картину мира. Если, по мнению В. С. Жидкова и К. Б. Соколова, «при формировании картины мира реальность как бы удваивается: с одной стороны, существует некая объективная реальность, с другой — ее психическая модель»1, то возможно предположить, что формирование художественной картины мира предполагает «утраивание» реальности, поскольку создается художественная модель реальности, имеющая символический смысл.
Понятие «художественная картина мира символистов» имеет условное значение. В данном случае мы определяем наиболее типичное содержание картины мира, свойственное русскому символизму, не дифференцируя этапы и школы развития этого направления в России, а также акцентируя внимание на индивидуальных взглядах отдельных представителей символизма, связанных наиболее тесным образом с провинцией.
Для русского символизма проблема провинции и провинциальности не сводится к определению пространственных границ. Она рассматривается символистами в иных ракурсах, выходящих за рамки традиционного в русской литературе XIX в. понимания провинции как захолустья, пошлости и мелочности. Провинциальность для символистов скорее соотносится с понятиями «обыденность», «быт», «повседневность».
По мнению С. Бойм, «в культуре, для которой эсхатологическое и апокалиптическое неразрывно связано с идеей национального, мало терпимости по отношению к обыденному, преходящему и повседневному»2. На рубеже XIX—XX вв. быт воспринимается не только как бездуховность, но и как «мир мелочей», не заслуживающий внимания, бессмысленный и пугающий.
Об этом мире пишет Д. С. Мережковский, сопоставляя творчество А. П. Чехова и М. Горького3. Он приходит к выводу, что быт Чехова равносилен небытию, пустоте. «У чеховских героев нет жизни, а есть только быт — быт без событий или с одним событием — смертью, концом быта, концом бытия. Быт и смерть — вот два неподвижных полюса чеховского мира»4. Для Д. С. Мережковского чеховская повседневность — болезнь, избавить от которой может только смерть. Но самое страшное, по мнению Мережковского, не только это, а то, что, кроме этого быта, не может быть ничего. Поэтому обыденно для Чехова все: любые события, включая и смерть.
Еще более показательны размышления З. Н. Гиппиус по поводу быта в творчестве Ф. М. Достоевского и А. П. Чехова. Выбор имен не является случайным, для поэтессы оба писателя — знаковые фигуры в русской литературе XIX в. Кроме того, творчество их отражает две тенденции восприятия быта, сложившиеся в культуре конца XIX в. Оба писателя любят жизнь «в ее мелочах», бытовых проявлениях. Если для Достоевского быт — пошлость и небытие, провалы, пугающие своей пустотой, то Чехов, по мнению З. Н. Гиппиус, не понимает, как страшен и опасен быт. Покой, неподвижность для его героев — соблазн, «из чеховской нежной, тонкой, слепой скуки нет другого пути, как в последнюю сладость последнего замерзания»5. Для З. Н. Гиппиус эта проблема ставится не как проблема быта или его отсутствия, а как проблема бытия или небытия, где «мелочи жизни», быт есть свидетельство небытия, которое либо ужасает, либо сладко убаюкивает, обещая тепло и уют, но и в том и другом случае несет разрушение.
С. Бойм замечает, что «со времени романтизма повседневность видится как „пошлость жизни”, застой и повторение, лишенные какого бы то ни было трансцендентного или поэтического смысла. Такова повседневность с точки зрения поэтов и интеллигентов, которые часто говорили от имени „маленького человека”, но не так часто его слушали»6. Для декадентов провинциальный быт — своеобразный синоним «чертовщины», скуки, пошлости. Быт для З. Н. Гиппиус настолько страшен, что приобретает мистическое звучание: он не создается людьми, а «рождается сам», из «колеса» быта почти нельзя вырваться, он затягивает и убивает, «затирает личность».
Вместе с этим русские символисты не отрицали сложившуюся литературную преемственность в художественной культуре конца XIX — начала ХХ в. Поэтому для символистов А. П. Чехов — предшественник, единство творческих поисков с которым обыденность осознается более отчетливо, чем отрицание или противопоставление. А. П. Чехов, по мнению А. Белого, «не может не быть символистом». Потому в творчестве А. П. Чехова «сам по себе взятый момент жизни при углублении в него становится дверью в бесконечность»7. Не представляется случайным то, что А. Белый выделил два знаковых имени в литературе рубежа XIX—XX вв.: «В Чехове начался, в Сологубе заканчивался реализм нашей литературы. Чехов оказался внутренним, но тайным врагом реализма, оставаясь реалистом. Сологуб поднял знамя открытого восстания в недрах реализма»8.
Причиной подобного утверждения стало рассмотрение провинциальности в творчестве Ф. Сологуба. Его жизнь оказалась самым тесным образом связана с провинцией. Именно в провинциальных городах (Крестцы Новгородской губернии, Великие Луки, Вытегра) формируется писательский талант Сологуба, рождаются первые декадентские произведения. Показательно, что даже З. Н. Гиппиус определяет свое первое восприятие Ф. Сологуба именно через соотношение «столичности» (по месту рождения) и «провинциальности» (по месту обитания): «Петербуржец, но служил до сих пор в провинции»9. А. Белый отмечает, «что персонаж Сологуба всегда из провинции, и страхи его героев из Сапожка: баран заблеял, недотыкомка выскочила из-под комода, Мицкевич подмигнул со стены — ведь все это ужасы, смущающие смертный сон обывателя города Сапожка»10, а А. Н. Че-ботаревская справедливо указывает, что многие образы «Мелкого беса» были взяты с «натуры» и содержат «нравы провинциальных болот того времени»11).
Вместе с этим никто из критиков не мог назвать Ф. Сологуба провинциалом. Дело не только в том, что он родился и учился в Петербурге, где продолжил свою писательскую карьеру. Слишком фантастичен, страшен, «нереален» был
тот провинциальный мир, который рождался в его произведениях. Это уже мир декадента, для которого понятие «провинция» приобретает совершенно другие границы и масштабы. Провинция становится системой координат, в которой существует человек без учета фактического места рождения или проживания.
Для чеховских персонажей пространство провинции — родной «угол» (не край или дом). Именно в «родном углу» Варя поддается обаянию степи, забывая о пошлом и думая, «как здесь просторно, как свободно»12. В дороге ей открываются картины «громадные, бесконечные, очаровательные своим однообразием»13, но, доехав до усадьбы, она думает что эта «нескончаемая равнина ... поглотит ее жизнь, обратит в ничто», и ей придется «поселиться в глухой усадьбе и изо дня в день, от нечего делать, ходить из сада в поле, из поля в сад»14.
В сологубовской прозе тоже есть «свой угол», тот угол, о котором А. Белый написал: «…Добрая половина обитателей глухой провинции — бессознательные буддисты: сидят на корточках перед темным, пустым углом. Сологуб доказал, что и переселяясь в столицы, они привозят с собой темный угол: доказал, что сумма городов Российской империи равняется сумме Сапожков. В этом смысле и пространства великой страны нашей суть огромнейший Сапожок»15.
Для А. П. Чехова и Ф. Сологуба — это угол, который есть всегда с русским человеком независимо от места его нахождения; это провинциальность, которую нельзя истребить. Если А. П. Чехов, по мнению Д. С. Мережковского, гениален тем, что во всем он видит обыкновенное, невидимое, и страшен тем, что «кроме этого быта, ничего не знает и не хочет знать»16; то Ф. Сологуб с его поэзией смерти, пыли, плена рисует провинциальное захолустье так, что «все обычное становится ужасным».
Поэтому даже реальное провинциальное пространство в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес» приобретает специфическое значение. Определение пространства в творчестве писателя достаточно условно и не является доминирующим, несмотря на яркие и точные зарисовки провинциального быта. Важнее не провинция как географическое пространство, а «передоновщина» — создание, по словам А. Г. Горнфельда, «более недействительное при всей своей повседневности»17, и ««мертвые души» русской провинции, в карикатуре изображенные Гоголем, — возвышенные создания в сравнении с удивительно мерзостными и нелепыми призраками, которыми населил свой город Сологуб»18.
Провинциальность в творчестве Сологуба — это скорее мирочувствование, мировосприятие, гротескный, фантастически страшный мир, часть которого есть в каждом русском человеке, поскольку каждый человек и создает этот провинциальный мир, населенный «недотыкомками». Поэтому, по определению А. Горнфельда, «Сологуб наш, страшно наш, и мы — его…. Он создал и создает целый мир, которого мы не знали бы без него; и эта „творимая легенда” при всей фантастичности, извращенности, причудливости, непонятности — …есть все-таки настоящая подлинная реальность»19.
Тема провинциальности не исчерпывается ее пространством или провинциальностью жизни русского человека. Провинциальность — это черта, свойственная и самому Ф. Сологубу, которого многие современники воспринимали как натуру двойственную и противоречивую.
Двойственность Ф. Сологуба заключается в наличии в нем страшного «угла», который он пытается преодолеть в себе и своем творчестве, предлагая многочисленные переводы С. Верлена, Вольтера, Ги де Мопассана, Ш. Бодлера, Т. Готье, Г. Клейста (стремление выйти за рамки русской культуры), совершая ряд поездок по провинции с лекцией «Искусство наших дней», посещая Европу (раздвигание реальных географических рамок своего существования), поменяв свой «провинциальный» уклад жизни с сестрой (об этом вспоминал Г. И. Чулков: «Казалось, что ты сидишь не в Петербурге, а где-нибудь в далекой провинции…»20) на светскую столичную жизнь с женой А. Н. Чеботаревской (с балами-маскарадами, поэтическими вечерами и т. д.).
Парадоксальность творчества Сологуба во многом была осмыслена современниками как органическое соединение космополитичности декадентства («декадентом он упал с неба, и кажется иногда, что он был бы декадентом, если бы не было …декадентства… Такова ирония истории: сын полтавской крестьянки, внеисторический Ф. Сологуб оказался стихийным воплощением… нового течения»21) и провинциальности мироощущения, которое и позволило Сологубу создать в литературе новую эмоциональную индивидуальность, секрет которой заключался в том, что писатель наделил героев своих произведений фактами собственной биографии и чертами своей личности.
В этом же ракурсе соотношения провинциальности и кос-мополитичности может быть рассмотрена личность К. Бальмонта — еще одного русского символиста. Если Ф. Сологуб был позиционирован критиками как «…самый настоящий декадент среди русских, …и самый русский среди дека-дентов»22, то К. Д. Бальмонт обозначен как «иностранец» в русской культуре и как «русский Бодлер или русский Верлен»23.
Такое «иностранное» положение К. Д. Бальмонта вовсе не случайно. Космополитизм его жизнетворчества заключен в его внешней оторванности от конкретного места. Поэт преодолевал провинциальное отношение к пространству. Он с легкостью пересекал континенты, был склонен к кругосветным путешествиям, не боялся экзотики и с невероятной легкостью вбирал в себя весь «чужой» мир, делая его частью своей души, стремясь открыть для России мировую культуру, вобрать в себя все достояние западноевропейского искусства.
Воплотив свою мечту, став «гражданином мира», осев в Париже, а затем перебравшись в его окрестности, к концу жизненного пути К. Д. Бальмонт вдруг становится «провинциалом», ведущим достаточно замкнутый образ жизни, тоскующим по Родине, по русскому языку. Эти изменения связаны не только с чувством ностальгии, но и с осознанием провинциальности как части своей души, где провинциальность сродни понятию Родины, а космополитизм — чужбины.
Ни Ф. Сологуба, ни К. Д. Бальмонта невозможно назвать «провинциалами»: слишком велика негативная окраска и слишком неоднозначна трактовка этого определения. Но в данном контексте они могут быть названы «великими провинциалами», преодолевшими (каждый по-своему) узость и ограниченность провинциального мышления и сохранившими чистоту, искренность и новизну провинциального мироощущения в созданной ими художественной картине мира.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Жидков В.С., Соколов Б. Искусство и картина мира. СПб.: Алетейя, 2003. С. 62.
2 Бойм С. Общие места: мифология повседневной жизни. М.: Нов. лит. обозрение, 2002. C. 49.
3 См.: Мережковский Д.С. Чехов и Горький // Эстетика и критика. М.: Искусство, Харьков: СП «Филио», 1994. Т. 1. С. 620—670.
4 Там же. С. 626.
5 Крайний Антон (З. Гиппиус). Литературный дневник. М.: Аграф, 2000. C. 159.
6 Бойм С. Общие места: мифология повседневной жизни. C. 159.
7 Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. М.: Искусство, 1994. Т. 2. С. 357.
8 Там же. С. 336.
9 Гиппиус З.Н. Живые лица. СПб., Азбука, 2001. С. 214.
10 Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. С. 336.
11 См.: Русская литература ХХ века (1890—1910) / под ред. проф. С. А. Вен-герова: в 2 кн. М.: Издат. дом «XXI век — Согласие», 2000. Кн. 1. C. 389.
12 Чехов А.П. В родном углу // Собр. соч.: в 12 т. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 8. С. 254.
13 Там же. C. 224.
14 Там же. С. 247.
15 Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. С. 336.
16 Мережковский Д.С. Чехов и Горький. С. 626.
17 Цит по: Русская литература ХХ века ... C. 422.
18 Там же. С. 425.
19 Там же. С. 439.
20 Чулков Г.И. Валтасарово царство. М.: Республика, 1998. C. 497.
21 Русская литература ХХ века ... C. 392.
22 Там же. C. 393.
23 Орлов Вл. Бальмонт. Жизнь и поэзия // Орлов Вл. Перепутья. Из истории русской поэзии начала ХХ века. М.: Худож. лит., 1976. С. 181.
Поступила 19.02.09.

All the materials of the "REGIONOLOGY" journal are available under Creative Commons «Attribution» 4.0